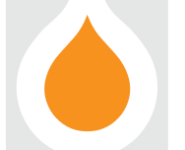Третий год очередного президентского срока Владимир Путин встречает в противоречивой обстановке: одновременно с триумфом сочинской Олимпиады последовали бои в Киеве, затем ссора с Западом из-за Крыма, обвал рубля и биржевых индексов. Что ждет режим Путина в ближайшие годы? Об этом в интервью Znak.com рассказал политолог Игорь Бунин.
Интервью вышло весьма познавательным. Например, президент фонда «Центр политических технологий» считает, что Россия своими действиями сплотила традиционно разрозненную украинскую элиту, сложилась украинская идентичность, причем на противостоянии с Россией, которая утратила один из главных ресурсов современного мира — доверие.
- Игорь Михайлович, около года назад вместе с Алексеем Кудриным вы опубликовали доклад, в котором говорилось о необходимости нового, либерального, договора между властью и обществом. Вы усматриваете какие-то приметы этого договора?
- То, что мы написали, было предположением. Реальный договор выглядит сегодня совсем по-другому. Первоначальный контракт, который был заключен в нулевые годы, сводился к следующему: государство старается обеспечить гражданам минимальные социальные стандарты, желательно с повышением их доходов, в то же время оно не вмешивается в частную жизнь: читайте что хотите, думайте как угодно, любите кого заблагорассудится, только не лезьте в политику. Вдобавок звучала мысль о том, что мы идем в цивилизованный мир, просвещенную Европу, правда, нетрадиционным способом, по-своему. Но идем.
Теперь возникла другая рамка: главное — патриотизм. Отсюда — антизападный и вообще антилиберальный настрой: мы носители истинной нравственности, «духовных скреп». Это делается властью, чтобы консолидировать свой электорат, это основная задача. Остальное — образование, медицина, ЖКХ и так далее — вторично, поскольку этими элементами программы электорат не консолидируешь.
В результате евроориентированные, либеральные избиратели, наоборот, оказались под ударом больше всех, потому что для них очень важно самовыражение, а в патриотической концепции возможности самовыражения ограничены — например, в личной жизни. В этой сфере появляются признаки ориентации на домостроевский подход. Это, в частности, выражается в запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди детей: считается, что даже реплика «я гомосексуалист» уже затрагивает нежные детские уши. Этот же консервативный подход ударяет по либеральному восприятию истории, некоторые ее фрагменты и их оценки оказываются под запретом. Скажем, сейчас пакт Риббентропа-Молотова уже не антиморальный, а соответствующий политическим реалиям конца 30‑х годов.
При этом экономический рост, в отличие от прошлых лет, ограничен 1—2% в год. Понятно, что зарплаты будут ниже запросов большинства общества, это будет создавать дополнительную психологическую нагрузку, которую тоже надо решать за счет дополнительной антизападной, антилиберальной пропаганды с опорой на «духовные скрепы».
- Эти «скрепы» на самом деле имеют место быть или это нечто надуманное для преодоления кризисного периода?
- Многие великие социологи, политологи рассматривали Россию не как отдельную цивилизацию, но как подтип европейской. Я солидарен с этой точкой зрения: Россия имеет свои особенности, но в корне не отличается от европейской цивилизации. Правда, сами европейцы воспринимают Россию как восточного варвара.
- Что сам народ думает о себе? Новый идеологический курс власти соответствует ожиданиям населения?
- Мы и сами, и вместе с «Левада-центром» проводили соцопрос и предлагали выбрать из четырех вариантов: европейский путь, путь современной России, то есть путинский, советский путь и путь «железной руки», сталинский. Кстати, на последний вариант указали 15—20%; впрочем, они выбирали не Сталина и не сталинизм — они выбирали аскетичного вождя, автократа, который бьет бояр, когда они пытаются что-то прикарманить; то есть «сильная рука» — это, скорее, артефакт.
Но самое интересное заключается в резком росте выбора социалистического, советского. Пиком европейского выбора были 2010—12 годы, особенно 2012‑й, когда люди решили, что такая возможность есть, казалось, что вот-вот — и мы пойдем по западному пути. Сейчас же доля сограждан, одобряющих социалистический путь, дошла до 39% — хотя раньше было и 19%, и 29%. Эти люди не видят европейской альтернативы и предпочитают прошлое, которое кажется им лучше настоящего, оттуда они черпают свои идеалы. Если в начале 90‑х психологически они были ориентированы на то, чтобы попробовать, прорваться (отсюда был такой рост предпринимательства), то сейчас главная установка — адаптироваться к нелюбимому режиму, от которого никуда не деться. Да, 85% считают элиту коррумпированной, но стремятся выжить, став подданными этого режима.
Все это говорит о том, что доля тех, кто еще верит в европейский путь, постоянно снижается. По нашим данным, она упала с 36% до 30%, а по опросам «Левада-центра» еще больше (замеры проводились до конфликтов вокруг Крыма — ред.). Но кого при этом консолидирует власть? Не активные массы, а тех, кто пассивно воспринимает мир, понимает, что не может совершить подвига, ищет лидера и готов за ним идти.
- Во всем виноват Путин? Или такова природа русского человека?
- Я бы не стал ссылаться на природу русского человека. Русские, попадая в другую среду, легко адаптируются к нравам, к практике других цивилизаций и достаточно быстро достигают там успехов. Они проявляют такие же способности, как, скажем, евреи, только евреи больше стараются сохранить свою общность, а русские растворяются, идеально адаптируются к новым условиям. Сама сложность российской жизни выработала эту способность меняться, это кожа, которая быстро перестраивается.
А если в группе русских больше 5—10 человек, они создают свой климат — хаос, веселье. Один мой хороший знакомый вел в 90‑е годы семинар под Лондоном, в замке, куда приезжали наши директора, которые обучались западному опыту. Он рассказывал, что когда заезжали русские, замок превращался во что-то варварское: слуги прекращали говорить «сэр», шло бесшабашное веселье. И после их отъезда на то, чтобы восстановить порядок, уходило несколько дней.
Соответственно, оставшись здесь, благодаря все той же адаптивности ты приспосабливаешься к существующей здесь системе: становишься коррумпированным, крутишься-вертишься, договариваешься, живешь по неформальным законам, по понятиям, иначе ты погибнешь. Не надо ругать русский характер — он гибкий, творчески одаренный, способный совершать чудеса. Просто он живет в тех условиях, в которых живет.
- А что делать остальным, кто все-таки ориентирован на Европу? Уехать, совершить внутреннюю эмиграцию, устроить восстание, как в Киеве?
- Нельзя сказать, что власть их совсем уж забыла: вот, назначили Панфилову уполномоченным по правам человека, сохранили «Эхо Москвы». Власть считает, что либеральное крыло общества — это 3—5%, поэтому получите 3—5% эфира, 3—5% внимания президента и так далее.
- Это же несправедливо мало.
- Но я должен сказать, что среди кандидатов в президенты у 30% евроориентированных граждан тоже с большим отрывом, больше 30%, побеждает Путин.
- Это от пессимизма, который есть политический реализм?
- Путин — фигура когнитивного консонанса. Если мы изымаем президента, общество становится индивидуалистичным и распадается на сегменты. Президент, что ни говори, символическая фигура, объединяющая нацию. Когда задавался вопрос «кто может заменить Путина?», никто не попадал в эту категорию: Шойгу и Кудрин не были премьер-министрами, а действующий премьер-министр не воспринимается как настоящий мужчина и тоже не может объединять всю нацию.
Поэтому хотя сейчас за Путина готовы голосовать не более 20—25%, когда мы придем на президентские выборы в 2018 году, выяснится, что альтернативы нет. Так как никто из значительных фигур истеблишмента не будет выдвигаться против Путина, а остальным — Навальному, Прохорову и другим — не хватает презумпции силы, власти, мощи, они легковесны для большинства избирателей. Тот же Навальный — фигура чисто московская и крупных городов, а в провинции его не знают и голосовать там за него не готовы. А без этого патерналистского электората подданных избраться невозможно.
- А если к пассивности большинства и разочарованию меньшинства добавятся объективные трудности в экономике?
- Мы очевидно находимся в ситуации стагнации, ежегодный рост не превысит 1—2%. Рассуждая не как экономист, каким я не являюсь, а скорее как психолог, я вижу, что тот активный порыв, который наш предпринимательский класс дал в 90‑е годы, практически исчерпался: те, кто сейчас у руля бизнес-империй, создавали их в начале 90‑х годов, порой в опасных для жизни условиях, и выходили из них. Сегодня им 55—65 лет, некоторые отошли от дел, а новых предпринимателей мало. Новые поколения представлены только в технологических отраслях, больше нигде новых бизнесменов нет, а если и появляются, то рядом оказывается группа рейдеров, которые отнимают у них бизнес.
Кроме того, часть наших бизнесменов стали интернациональными, живя за границей и вкладывая деньги в международные проекты. Результат — бегство капитала, которое на самом деле есть бегство от некомфортной жизни, где тебе не гарантирована безопасность, где тебе постоянно угрожают рейдеры, где плохое здравоохранение и не лучшее образование.
Так возникают «запасные аэродромы», лишающие российскую экономику важнейших инвестиций. За этими бизнесменами потянулся средний класс, который не может жить в Лондоне, но живет в Латвии, Болгарии, Финляндии. Таким образом, наше общество, наша экономика обескровливаются, предпринимательская энергетика, необходимая для развития экономики и общества, исчезает, уходит в другие сферы или эмигрирует, и начинается застой. Предпринимательство — это тонкий слой, 5—6%, который трудно восстановить. И вот это, как мне представляется, главная опасность, все остальное — большие мелочи.
- Мы приходим к тому, что курс развития страны определяет у нас верхушка, «элита», «аристократия»: активные слои уезжают, а массы пассивны. Вместе с тем экономические показатели не блещут, возможностей для реализации пассионарности немного — ни в политике, ни в бизнесе, при этом рядом, через границу — Майдан. Как вы думаете, какие выводы сделает наша «элита» из Майдана, хотя бы исходя из чувства самосохранения?
- Наш Майдан закончился в 2012 году. Вернее, это был не Майдан, а состояние эйфории, когда люди радовались коммуникации, всеобщему равенству, свободе, возможности обвалять власть в грязи. У нас это все равно проходит тихо, спокойно — и то пугает власть. Один из лидеров оппозиции сказал мне однажды: мы действительно думали, что сейчас возьмем Кремль. И главное — Кремль думал так же. На самом деле все это быстро закончилось, люди осознали, что таким образом изменить власть они не могут, одни замкнулись в себе, другие занялись благотворительностью, и лишь немногие оказались в автозаках.
Правда, с этого и начинается радикальный протест. Как это произошло после суда над «Землей и Волей», когда сотни людей ни за что ни про что отправили в ссылку и после этого появились народовольцы. Я не говорю, что возникнет политический террор, но появятся (и уже появились) люди, которые будут жить жизнью профессионального революционера — не стреляющего, а ходящего на митинги, по площадям, в суды. Они будут чувствовать себя жертвами, поднимать себя в собственных глазах…
- Вы как раз описали затишье перед киевским Майданом…
- Все будет зависеть от количества людей, которые выйдут: в 1968‑м против вторжения в Чехословакию вышли единицы, а в 1991‑м все кончилось крушением системы. Чтобы взорвалась система, нужно, чтобы против нее выступили не радикалы, а подданные. А чтобы выступили подданные, нужна ситуация Новочеркасска — когда обеднение масс наслоится на чувство обиды. Сейчас такую ситуацию сложно воспроизвести.
- Но в Киеве-то это случилось, а ситуации там и у нас — схожие.
- Там другая политическая культура, эта страна за последние годы несколько раз пережила смену власти. Там четко выраженные субкультуры. Наша европейская субкультура не очень сильно отличается от субкультуры подданных. Мы проводили исследование и выяснили, что «разница температур» не сильная. А в Украине — очень четко выраженная субкультура подданных с юго-востока и резко, до агрессивности проявляющая себя евроориентированная субкультура.
Далее, это страна очень бедная: 20 тыс. долларов ВВП на человека в России и 7 тысяч на Украине. Очень сильная, бОльшая, чем у нас, социальная дифференциация. И потом, Янукович понасовершал видимо-невидимо ошибок. Сначала пообещал Европу, потом ее закрыл, стал разгонять Майдан, издал ряд драконовских законов и, наконец, применил силу.
Это несопоставимо с нашими «Болотной и Сахарова». Я не вижу такой угрозы в нашей стране. И если власть не будет совершать грубых ошибок, она сможет пережить 2016 год и переизбраться. Чтобы ситуация в корне изменилась, власть должна совершить очень много грубых ошибок, как Янукович — одну за другой, или как в свое время Николай или Керенский. Я говорю о ситуации ближайшего периода. Говорить о том, что будет через десять лет, я не могу. Хотя порой все происходит очень быстро: в России власть в 1917 году, как сказал Иван Бунин, «слиняла» в три дня (это повторилось и в 1991‑м).
- А ссора с Западом из-за Восточной Украины и обвал рубля и биржевых индексов не из разряда грубых ошибок?
- Думаю, что это было эмоциональное решение. Причины его понятны — в России активную игру Запада в Украине, поддержку прозападных политических сил, приход этих сил к власти восприняли фактически как непрямую агрессию, удар по сфере интересов и ответили — жестко, в стиле XIX века. Но мир стал глобальным, и издержки оказались большими — и экономические, и политические.
И дело не только в обвале рубля — в современном мире одним из главных ресурсов является доверие, в данном случае между Россией и Украиной, Россией и Западом. И его придется долго и трудно восстанавливать. Кроме того, Россия своими действиями сплотила традиционно разрозненную и внутренне конкурентную украинскую элиту — по сути дела, сложилась украинская идентичность, причем на противостоянии с Россией.
- Что ж, из всего надо извлекать уроки. А с точки зрения таких уже «перезревших» вещей, как борьба с коррупцией и «национализация элит», Майдан ничему не научит наши верхи?
- Что такое наша антикоррупционная кампания? Она носит выборочный характер: погибает тот, у кого нет «крыши», надежного покровителя. Очень много профанации, яркий пример — Сердюков: казалось, что он мог стать образцом борьбы с коррупцией, а сейчас этот «образец» амнистируют. Элита подсуетилась: она разводится с женами, создает сложные цепочки экономических связей.
Идея «национализации элиты» уже забыта, она прозвучала и исчезла. Стало понятно, что «национализировать» нашу элиту невозможно. Оказалось, что даже у Мизулиной сын живет в Бельгии и работает адвокатом в компании, поддерживающей ЛГБТ-сообщество.
Думаю, борьба с коррупцией и дальше будет носить воспитательный характер. Те, кто будет нарушать правила игры и не иметь при этом покровителей, будут ликвидироваться, но реальной борьбы, когда будут уничтожаться сами условия для коррупции, не будет, даже воли такой у власти нет.
- А у населения? Его ведь одними «духовными скрепами» не мобилизуешь?
- А зачем его мобилизовывать? Если они примутся мобилизовывать население, это будет концом всего. Потому что мобилизационное общество смертельно опасно для такой власти. Да и потом, люди индивидуалистичны, трепетно относятся к своей частной жизни, не хотят, чтобы их мобилизовывали на абстрактные цели. Создать из них мобилизационное общество невозможно.
- Все-таки я никак не могу взять в толк, на чем основывается уверенность режима в своих силах. Экономика упала, «низы» тревожатся, а «верхи» не собираются ни бороться с коррупцией, ни вообще как-то меняться…
- Из избирательных циклов 2012—13 годов даже «Единая Россия», «партия жуликов и воров», сумела выйти чистенькой, ее результат вполне приемлем для власти. И даже на выборах мэра Москвы, которые проходили более демократично, никакого страха не возникло: как было запланировано, так и получилось. Страх прошел в 2012 году, сейчас, за исключением Москвы, где действительно сложные выборы, для власти все не так уж плохо. На улицы народ больше выходить не будет. И почему в этой ситуации власть должна чего-то бояться?
«Единая Россия» не расколется, я думаю, что на парламентских выборах 2016 года она споет свою последнюю, «лебединую», песню, получив 30—40%. «Народный фронт», предполагаю, всерьез проявится лишь в 2018 году как движение в поддержку президента. И ничем себя не запятнавшим «оппозиционным» партиям всегда найдется место в парламенте. Свои 10—12% получит КПРФ, 6—7% — ЛДПР. Разве что «Справедливая Россия» потеряет половину избирателей, которая голосовала за нее как за партию оппозиционную (другая половина голосовала больше как за партию, приближенную к власти).
Часть ее электората достанется другим партиям, таким как «Гражданская платформа», которая при определенных условиях может пройти 5‑процентный барьер. Хотя, с учетом личных жизненных ориентиров Михаила Прохорова, я сомневаюсь в успехе. Его интерес к политике резко уменьшился, он понял, что как фигура, способная быть мостиком между властью и оппозицией, он элиту не интересует.
- Вы нарисовали картину откровенного застоя. Самого Владимира Владимировича она устраивает?
- Не надо путать Владимира Владимировича с Иваном Грозным, Петром Первым и Сталиным. Владимир Владимирович — человек с сильной номенклатурной и клиентельной закалкой, своих не сдает. Никаких чисток не будет, только точечные изменения. Нынешняя власть поставила себе задачей спасти не общество, не Россию, а режим. Вот режим она хорошо спасает. Что касается долгосрочных программ типа «модернизации», все выброшено и забыто, все это не имеет большого значения для нынешней власти, она занимается только своими проблемами.
- Неужели они не понимают, что через какое-то время им просто некуда будет деваться? Меняйся — или умри.
- А они не собираются уступать власть. И уверены, что не уступят.
Источник: Politcom.ru